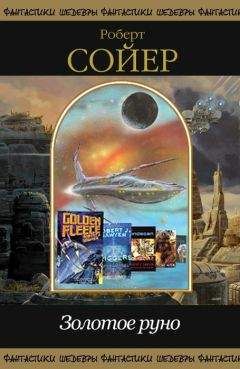Василий Лебедев - Золотое руно [Повести и рассказы]
На палубе потягивало ветерком с Ионического моря, туда же, к западу, направлялось все еще высокое солнце. Паром дышал прогретым железом, солоноватый запах его перемешивался с соленым запахом моря: соли в воде Средиземного моря намного больше, чем в нашем, в Черном…
Мадам Каллерой стояла в одиночестве и смотрела не на юг, где все отчетливее прорисовывался берег с его причалом и какими-то постройками, а на запад. Лица ее было не узнать. В профиль оно казалось лицом львицы, готовившейся к прыжку за борт Я дважды прошел мимо, но она не обратила на это внимания, очевидно, не заметила.
— Мадам Каллерой! Простите…
Она посмотрела сквозь меня и перевела взгляд снова туда, куда только что смотрела, но где не было видно ничего, кроме лазурного моря, а дальше — остров Онасиса.
— Я заставил вас волноваться в Нафпактосе, поверьте, это произошло…
Жестом руки и энергичным кивком она дала понять, что все понимает, но в то же время ей как-то не до меня, отсутствующий и рассеянный взгляд. Я отошел на несколько шагов и вдруг увидел, как она торопливо открыла сумочку, достала платок и прижала его к лицу. Нет, она не была артисткой, но лицо ее переменилось и стало вновь мягким и приветливым. Я приблизился к борту, чтобы не стоять среди палубы, как истукан. Тут же подошла она и, оглянувшись, тихо проговорила:
— Что бы вы сказали, если бы вам стало известно, что через несколько дней в Афинах вас будет ждать один человек?
Я молчал в недоумении.
— Вы меня поняли?
— Да, мадам Каллерой…
Что она затеяла? С каким еще человеком намерена свести меня? Может, это Илья напряг свои полторы извилины и надумал отблагодарить за бутылку русской водки, посланной отцу? Если так, то почему между ними такая молниеносная связь? Тут, кажется, я стал размышлять как контрразведчики в плохих фильмах, осточертевших даже невзыскательным зрителям… Однако что день афинский мне готовит?
— Так что же вы скажете на это?
— Я не против, мадам Каллерой.
— Вот и отлично!
Лицо ее просветлело, было в нем что-то очень хорошее, искреннее.
— Вы опасались, что я откажусь? — этак непринужденно спросил я и если бы имел пагубную привычку курить, то небрежно закурил бы и бросил спичку в море.
— Я не сомневалась в вас.
— Иного ответа и быть не могло: писатель должен встречаться с разными людьми, изучать жизнь. В этом его работа, его обязанность, — изрек я. — Однако… могу ли я знать, кто меня…
— Подробности — в Афинах!
Она почему-то заволновалась и перешла к другому борту. «Охо-хо-хо-хо-о-о!.. Что же мне делать, маэстро? Не собрать ли на палубе колхозное собранье? А может быть, благоразумнее все-таки отказаться? Можно же найти какую-нибудь причину и отказаться под предлогом острого сердечного приступа. Приступ можно вызвать, если я узнаю, что в Афинах ждет меня та богиня с аэродрома, — увы! — едва ли!»
— Какого дьявола так медленно тащится паром! — воскликнул я.
Однажды Горький встретился в поезде с Сергеевым-Ценским и спросил того:
— Ты видел, Ценский, Военно-Грузинскую дорогу?
— Нет, не видел.
— Плохо! Вот умрешь, заявишься на тот свет с надеждой на хорошее местечко, а тебя и спросят: а видел ты, Ценский, Военно-Грузинскую дорогу? А ты им — нет! Ну и погонят тебя тамошние благодетели в самый мрак и правы будут: раз на земле красотой пренебрег, там ее уже не вымолишь. Торопись!
Этот диалог двух писателей, читанный мной где-то, вспомнился в тот самый час, когда на горизонте затемнели деревья Олимпии — самого зеленого места из всех, которые мне довелось видеть в Греции. Олимпия… И это тоже не сон. Но к радости предстоящей встречи со Священной рощей, древним стадионом, развалинами храмов примешивалось светлое чувство запоздалого опасения, что можно было прожить свои быстротечные десятилетия, прошататься по миру, глазея на дымную Темзу, реветь на мадридской корриде вместе с людским стадом современных питекантропов или ротозеить на углу сто-какой-нибудь авеню в бездушном Нью-Йорке и никогда — подобно миллионам других людей — не увидеть этой земли, не услышать тишины Священной рощи…
Олимпия… За восемь веков до новой эры здесь пасли скот и собирали виноград. Точно так же текли реки Кладос и маленькая — Алфей, а под холмом, что назван Священной горой Кронной, бил прохладный ключ. В нем можно было искупаться после работы на виноградинках, и, взбодрившись прохладой, а порой и молодым вином, что уже забраживало к осени, древний грек мог пробежать наперегонки до реки или тут же, у источника, помериться силой в честной борьбе со своим соседом по деревенской хижине… Так вот, просто, без высокого божественного вмешательства, зародился интерес древних к состязаньям, со временем переросший в традиционные игры. Греческая земля — не исключение, она тоже полнится слухами, и для состязаний в Олимпию стали съезжаться с разных сторон, из других селений, а затем и полисов — городов. Чем дальше, тем шире росла популярность состязаний, и, наконец, они получили благословение дельфийского оракула в 776 году до нашей эры. Победители соревнований стали возвеличиваться, подобно олимпийским богам, их стали звать олимпийцами, да и сами игры получили божественное название Олимпийских. Вот он, гениально прямой путь — к божественному через совершенство тела и духа!
Олимпия… Крохотная деревушка. Что случилось с тобой, что произошло за эти века, за эти тысячелетия?
Любой человек, мой современник, естественно предположит, что за тысячи лет это всемирно известное место должно было бы плотно заселиться греками, а вездесущий капитализм должен был взломать священные традиции и бурной крапивой поднять над античными развалинами свои фабрики, гигантские отели, кемпинги, мотели, рестораны мирового класса, нагромоздить заводы с современными поточными линиями, производящие с божественной маркой и клеймом «Олимпия» машины и зубной порошок, хирургические инструменты и самосвалы, ночные горшки и губную помаду — короче, из греческой мухи, по слову поэта, сделать африканского слона и тут же торговать слоновой костью. Но нет! Под кущами средиземноморских кедров, пахнущих медом, как русский клевер в июле, разместились лишь несколько небольших гостиниц, улица крохотных магазинов, но самым неожиданным была она, деревня Олимпия. Она не разрослась, оставаясь и поныне не больше нашего украинского села, и потому не погубила своего обаяния, не дала возможности заслонить толпами своих жителей, их ежедневной житейской суетой то главное, что давным-давно кажется нерукотворным, за что благодарен грекам весь нынешний мир. Благодарен даже за развалины, освобожденные от земли.
Автобус остановился около небольшого отеля, близ святая святых Олимпии — Священной рощи и стадиона. Деревья этой рощи совсем рядом, они видны из окон автобуса, заглядывают на солярий отеля. Выходим в торжественном молчании: нам довелось ступить на эту землю!
Двери отеля блеснули стеклом, и к нашим чемоданам высыпало около десятка размолоденьких гречанок в синих платьишках. Они пролепетали какие-то приветствия и кинулись к нашим чемоданам, вцепились в них цепкими ручонками юных гимнасток, поволокли. Такого еще не было, чтобы девчата носили багаж в гостиницу. Это, вероятно, отсутствие туристов осенью заставило хозяев рассчитать мужчин до весны, а их функции в качестве дополнительной нагрузки стали выполнять девочки-горничные. Экономика… Одна шустрая уже успела отнести чей-то чемодан и схватила мой. Тяжелый. Но всему же есть предел! Догоняю у лестницы, беру амазонку на руки и несу ее в отель. Она держит чемодан, я — ее. Ногами не брыкает, но кричит подругам, те смеются. Все правильно: мы из России и к братству не привыкли.
Наша маленькая группа — единственные гости отеля. Из обеденного времени мы давно выбились, но обед, приготовленный для нас, бережно подогревали, поэтому сразу из номеров прошли в маленький уютный зал ресторана. Вместо официанток — те же наши милые горничные, лишь передники забелели у них поверх платьев. Вот несет неумело тарелку, и я вижу на округло-плотных юных ладонях едва приметные темные трещины, — видать, с утра работала на винограднике… Послушные нимфы-труженицы! Кажется, с одинаковой легкостью они готовы исполнить все приказы хозяина — носить воду из Кладоса, убирать мусор, готовить обед, рыть землю или петь перед гостями. С легкостью ли?
Ах, девчонки! Они уже второе несут…
Но разве усидишь долго за столом, когда сейчас ждет тебя стадион номер один из всех, что были и есть под солнцем.
Автобус ушел — и ладно: до Священной рощи — четыре минуты ходьбы. Налево остается музей, в котором самое почетное место занимает мраморная статуя величайшего скульптора древности Праксителя — Гермес с Дионисом. Репродукции этого уникального произведения искусства обошли весь мир, а завтра мы увидим трехметровую статую обнаженного Гермеса, свободно облокотившегося на колонну левым локтем руки, на которой он держит маленького Диониса. Будущий пьянчужка, божок вина, тянется ручонкой к виноградной лозе, которую держит, дразня малыша и как бы раздумывая — давать ли, — в правой руке Гермес. Правда, нет у Гермеса правой руки почти по локоть. Вот уже полторы тысячи лет он инвалид, но потрясающей силы скульптура не теряет прелести, а, подобно безрукой Венере Милосской, вызывает щемящее чувство любви и боли. — Этой работе, говорит мадам Каллерой, отдан отдельный зал со стеклянной крышей. Учтено возможное землетрясение: если случится это бедствие — стены, согласно конструкции, упадут в разные стороны и утянут за собой части крыши. Если упадет статуя, она упадет в песок, насыпанный толстой подушкой вокруг и ограниченный крашеными досками. Вот и пример заботы греков о будущем…